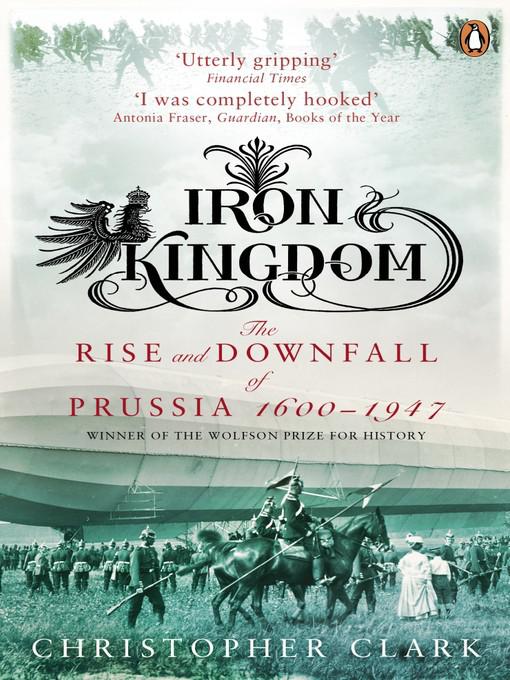без преимуществ международной обстановки, которая благоприятствовала Вене против Берлина. Это был еще один урок, который прусским государям приходилось периодически усваивать на протяжении всей истории королевства. Германский вопрос в конечном счете был европейским вопросом. Его нельзя было рассматривать (не говоря уже о том, чтобы решать) в изоляции. Россия, Франция, Британия и Швеция объединились, чтобы заставить Берлин отступить в войне с Данией летом 1848 года, и помощь России была необходима для восстановления Вены, чтобы она могла решительно ответить на вызов Берлина. Именно русские перевесили чашу весов в борьбе между силами Габсбургов и венгерской революцией, самым крупным, хорошо организованным и решительным восстанием 1848 года в Европе. За спиной Шварценберга в Ольмюце стояла неисчислимая мощь русского царя. По приказу царя, - предсказывали Маркс и Энгельс в октябре 1850 года, - мятежная Пруссия окончательно сдастся без единой капли пролитой крови "57.57 С точки зрения ноября 1850 года было ясно, что успешная попытка Пруссии добиться германского единства потребует фундаментальных изменений во властно-политической констелляции Европы. Как эта трансформация может произойти и какие последствия она повлечет за собой, было вопросом, выходящим за рамки кругозора даже самых богатых воображением современников.
Для энтузиастов унионистского проекта Пункция казалась шокирующим поражением, унижением, пятном на чести королевства, взывающим к отмщению. Либеральный историк-националист Генрих фон Зюбель, учившийся у Леопольда Ранке в Берлине, позже вспоминал о настроении разочарования. Пруссаки, писал он, приветствовали своего короля, когда он поднял национальное дело против датчан и защищал достойный народ Гессен-Касселя от тиранического курфюрста. Но вот наступила перемена: кинжал выскользнул из дрожащего кулака, и многие отважные воины пролили горькие слезы в бороду. [...] Из тысячи горл вырвался единый крик боли: во второй раз дело Фридриха Великого было уничтожено".58 Сибель преувеличивал. Новость об Ольмюце приветствовали многие, в том числе, конечно, и консервативные враги Радовица. Одним из них был Отто фон Мантёффель, который давно настаивал на урегулировании отношений с Австрией путем переговоров и был назначен министром-президентом и министром иностранных дел 5 декабря 1850 года - ему предстояло оставаться на обоих постах в течение почти всего следующего десятилетия. Еще одним консервативным депутатом был Отто фон Бисмарк. В знаменитой речи перед прусским парламентом 3 декабря 1850 года Бисмарк приветствовал Ольмюцкое соглашение, добавив, что, по его мнению, не в интересах Пруссии "играть в Дон Кихота по всей Германии от имени недовольных парламентских знаменитостей [gekraänkte Kammerzelebritaäten]".59
И даже те националистически настроенные протестантские либералы, которые поддерживали унионистский проект, признали, что Ольмюц также стал моментом трезвости и прояснения после риторических эксцессов революции. "Реальность, - писал в 1851 году мелкогерманский националист и историк Иоганн Густав Дройзен, - начала торжествовать над идеалами, интересы - над абстракциями[...] Не с помощью "свободы", не с помощью национальных резолюций было бы достигнуто единство Германии. Требовалось, чтобы одна держава выступила против других держав".60 Неудачи 1848-50 годов не только не подорвали веру Дройзена в немецкое призвание Пруссии, но и укрепили ее. В эссе, опубликованном в 1854 году накануне Крымской войны, он выразил надежду, что решительная Пруссия в один прекрасный день утвердит свое лидерство над другими немецкими государствами и тем самым создаст единую протестантскую немецкую нацию. После 1806 года наступил 1813 год, после Линьи - Ватерлоо. По правде говоря, нам нужно только крикнуть "Вперед", и все придет в движение".61
НОВЫЙ СИНТЕЗ
Исторические повествования о революциях 1848 года в Европе обычно заканчиваются элегическими размышлениями о провале революции, триумфе реакции, казнях, тюремном заключении, преследовании или изгнании радикальных активистов и согласованных усилиях последующих администраций по насильственному стиранию памяти о восстании. Общеизвестно, что восстановление порядка в 1848-9 годах положило начало эпохе реакции в Пруссии. Были предприняты целенаправленные усилия, чтобы стереть память о восстании из общественного сознания. Церемонии в честь "мартовских павших" и шествия к их могилам на Фридрихсхайнском кладбище были строго запрещены. Полиция была укреплена, увеличена и расширена сфера ее ответственности.
Демократическое избирательное право, предоставленное прусскими властями по конституции декабря 1848 года, было отменено в апреле 1849 года. Согласно новому избирательному праву, почти все жители королевства мужского пола имели право голоса, но их голоса различались по стоимости, так как они были разделены на три "класса" в зависимости от их налогооблагаемого дохода. Каждый класс голосовал за одну треть выборщиков, которые, в свою очередь, выбирали депутатов в парламент. В 1849 году резкая разница в доходах населения королевства означала, что за первый класс, представлявший самые богатые 5 % избирателей, проголосовало столько же выборщиков, сколько за второй (12,6 %) и третий (82,7 %).62 В 1855 году парламент обзавелся новой верхней палатой, Херренхаусом, созданной по образцу британской Палаты лордов и не содержащей ни одного выборного члена. Возрожденная Германская конфедерация вернулась к своей проверенной временем роли органа внутренних репрессий во всех немецких землях и издала Конфедеральный закон от 6 июля 1854 года, который, в сочетании с поддерживающим законодательством в отдельных землях, ввел ряд инструментов для пресечения распространения подрывных публикаций. Еще более значимым был принятый чуть более недели спустя Конфедеральный закон об ассоциациях, который подвергал все политические объединения полицейскому надзору и запрещал им поддерживать отношения друг с другом.63
Однако возврата к условиям домартовской эпохи не произошло. Мы также не должны считать революции неудачей. Прусские потрясения 1848 года не были, по выражению А. Дж. П. Тейлора, "поворотным пунктом", куда Пруссия "не смогла повернуть". Они стали водоразделом между старым миром и новым. Десятилетие, начавшееся в марте 1848 года, стало свидетелем глубоких преобразований в политической и административной практике, "революции в управлении".64 Сам переворот мог закончиться неудачей, маргинализацией, изгнанием или тюремным заключением для некоторых из его протагонистов, но его импульс, подобно сейсмической волне, распространился по ткани прусской (и не только прусской) администрации, меняя структуры и идеи, привнося новые приоритеты в управление или реорганизуя старые, переосмысливая политические дебаты.
Пруссия впервые в своей истории стала конституционным государством с выборным парламентом. Этот факт сам по себе создавал совершенно новую точку отсчета для политических событий в королевстве.65 Прусская конституция 1848 года была промульгирована короной, а не разработана выборным собранием. Тем не менее она пользовалась популярностью у подавляющего большинства либералов и умеренных консерваторов.66 Ведущие либеральные газеты приветствовали конституцию и даже защищали ее от левых противников, утверждая, что она вобрала в себя большинство требований либералов и, таким образом, является "делом рук народа". Тот факт, что правительство пошло на нарушение либеральных принципов, издав ее без санкции парламента, был широко освещен.67 В последующие годы конституция стала "частью прусской общественной жизни".68 Более того, нежелание умеренных либералов рисковать возвращением